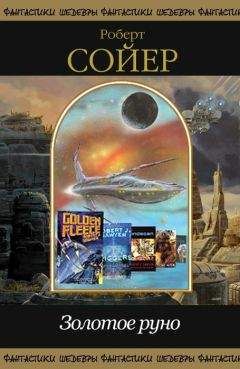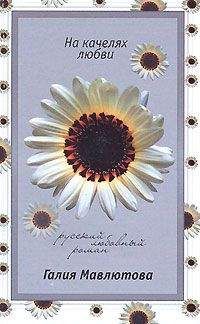«Кого мы обманываем? Кого?» — задавал себе вопрос Дмитриев, в который раз доходя опытом своей работы, что есть еще недостатки посерьезнее хамов Бобриковых.
Вопреки ожиданию, короткое собрание-летучка прошло на удивление спокойно. Люди говорили немного, по делу. Казалось, что все изготовились слушать его, потому как были уже наслышаны о столкновении с директором. На лицах он читал все тот же немой вопрос — хватит ли тебе сил, парторг? — а по голосам, по интонациям, по жестам он понимал, что в решительный день он может на этих людей положиться.
До главных ворот он подъехал на попутной и как раз у того коварного кювета, где на обочине еще светились осколки стекла после катастрофы, он увидел жену Костина.
— Что это вы? — тревожно спросил он. — Уже расчет поспешили взять? — полагая, что она идет из конторы.
— Не-ет, — улыбнулась она, кажется, впервые за все время, как он ее знал. — Павел велел снова на телятник идти, да и то сказать; чего бегать-то?
— Правильно, — облегченно вздохнул Дмитриев, но все же спросил; — А по какому делу на центре?
— Да вот послал рубаху покупать, — тряхнула она пакетом. — Самую, говорит, лучшую, самую белую бери, мы, говорит, с парторгом за билетом поедем в райком. Так вот я и ходила…
— Ну, счастливо вам! Передайте привет Павлу да скажите там, в Буграх: с первого числа автобус будет ходить!
День действительно превзошел все ожидания. Когда он подходил по подсохшему асфальту к первым домам, то увидел на крыльце детского сада женщину в белом халате, издали похожую на его жену. «Да это она!» — со смешанным чувством обиды и торжества подумал Дмитриев. Неудержимо потянуло к сыну, захотелось хоть минуту подержать его на руках, ощутить на своей шее маленькие ладошки. Он прибавил шагу и хотел перейти на другую, на левую сторону дороги, но услышал резкий сигнал машины и отскочил к канаве.
Мимо пролетела черная «Волга». По номеру он безошибочно угадал машину Горшкова. Следом прошел «козлик» Фролова, в брезентовой пещере — битком людей. За фроловской машиной старым начищенным самоваром летел «Москвич» Орлова, играя на дневном солнышке всеми вмятинами забубенного лихача. Орлов выкинул в окно ручищу, махнул Дмитриеву — дуй в контору! — и через сотню метров приткнул свою хворобину прямо к машине Горшкова.
«Начинается…» — грохнуло в груди Дмитриева. Он весь подобрался и неторопливо пошел к выходившему из машин начальству.
Откуда-то появились люди, должно быть, из производственных мастерских, доярки, шедшие на дневную дойку. Приостанавливались на почтительном расстоянии. Дмитриев заметил, как Горшков первым поздоровался с Дерюгиной кивком головы — помнил знаменитую доярку, узнал — и неожиданно быстро пошел навстречу Дмитриеву, в то время как Бобриков уже ссыпался с крыльца и семенил к машинам. Горшков молча подал руку Дмитриеву, посмотрел ему в глаза и мягко сказал:
— Ну что, скандалист, пойдем потолкуем?
— Да, наверно, пора, Юрий Арсеньевич, — в тон ему ответил Дмитриев, и они направились к правлению.
Если человек боится смерти — значит, он не созрел для нее.
Если человек опасается старости — значит, он еще молод.
Однако никакие сентенции не спасают порой от раздумий, не обороняют никого от действий, столь же естественных, как течение времени. Как часто приходится ловить себя на нескромном желании поделиться с людьми опытом своей жизни — первом намеке на уходящую молодость, и хотя опыт не определяется количеством прожитых лет, откуда все же берется это желание? Уместно ли оно? Древние утверждали: сдерживая желание, становишься мудрым. Если с этим согласиться безоглядно, то в каком же невыгодном положении оказываются все писатели и те же философы, включая древних, что обрекли себя на извечно трудное дело общения с людьми на основе все того же несдержанного желания — рассказать об опыте жизни, опыте мысли! Однако совершенно очевидно: драгоценный опыт человека, обращенный не на себя, а во благо людское, — это и есть наивысшая мудрость бытия. Это она повелевает человеку разобраться в самом сложном и малоприятном объекте — в самом себе, приобщиться к мудрости человечества и просто помогает жить.
Но все же: сдерживая желание, становишься мудрым.
Не в моей власти, но в тот вечер мне хотелось быть таким.
В прошлом году, в неохватное время белых ночей, мне полюбились поздние прогулки по городу. Это понятно каждому, кто видит нынешний город чаще всего в тесноте транспорта, в сутолоке тротуаров, и как бы человек ни привык к муравьиной жизни супергородов, он не разучится ценить редкие часы блаженства, когда он остается почти один на один с огромным городом. Редко-редко мелькнет вдали машина под мигающим светофором, а маленькую фигуру человека и вовсе можно не заметить в размахе широких улиц, и только высятся громады притихших домов, залитых светом белой ночи, опустевшие, будто жители ушли из них давно и надолго и не найти им обратно пути. Кажется невероятным, что в огромных домах не стукнет дверь парадного, не блеснет холодным блеском светлого бессолнечного неба ни одно стекло… Стоят дома, будто океанские суда, а неровные цепочки легковых машин вдоль тротуаров беззвучно горбатятся, словно корабельные мыши. В таком городе, именно в этот час, почему-то видно далеко, как в осеннем облетевшем лесу, и так же тревожно, подобно лесному костру, чадит где-нибудь труба, но воздух успевает к полуночи очиститься, а смоченные росой трава и листья нечастых деревьев дышат забытой, неправдоподобной свежестью… В такой час особенно приятно встретить прохожего, с которым, как на лесной дороге, хочется поздороваться и поговорить.
В тот вечер я вышел позже обычного. Долго настраивал себя на привычную лирическую ноту, долго вылавливал тот легкий и непринужденный шаг, единственно возможный для фланирования, от которого не устаешь, а получаешь удовольствие. Еще дольше успокаивал себя. Целый день не мог найти интонацию нового рассказа. Более двенадцати часов просидел над бумагой и все порвал, а тут еще жена вышла в прихожую, подбоченилась и боднула взглядом:
— А куда это ты повадился по вечерам?
— Это что — недоверие?
— Просто интересно знать!
(У них все «просто интересно знать!»)
— Ну что же. Я тебе отвечу: в эти чудные ночи я устремляюсь на тайные встречи к заветной калитке.
— С кем же?
(Этот грубый вопрос со всей очевидностью показывает, что моей благоверной трудно удержаться в рамках игры, она явно выходит за черту).
— Со стройной блондинкой.
Этими словами я последний раз поддаю мяч семейной лапты и тоже выхожу за черту — переступаю порог.
«Всё проходит», — написал на своем кольце царь Соломон. Он имел в виду великие трагедии человечества, распри народов, любовь и ненависть, богатство и власть. С тем большей легкостью лечит время мелкие неурядицы. Вот и мое настроенье поправилось, как только охватило меня со всех сторон это молчаливое, неизбежное и порой трагическое чудо — город. Было уже чуть-чуть за двенадцать. Безветренно и тепло. Прохожих почти не видно — сказывалась середина недели. Правда, на моем пути до Невы прокачались две пары молодых людей, висящие друг на друге, да вывалился из-за угла бычьих статей детина — плотен и обл, с потной морщиной на узкой лобовой броне. Костюм, галстук, рубашка, ботинки — вся фактура преуспевающего комиссионного торгаша — излучали благополучие и дежурный трепет перед будущим следователем…
— Что с вами? — Я задумался и зачем-то окликнул совсем юную девушку, неслышно обогнавшую меня. Только на один миг она повернула лицо в мою сторону и была, вероятно, раздосадована: я увидел ее слезы. Крупные. Неутешные. Так плачут над гробом близкого человека или в ранней юности при первом разочаровании… Она быстро скрылась за углом, и когда я, повернув домой по тому же пути, тоже зашел за угол, ее нигде не было. В памяти остался ее цыплячье-желтый плащ, тонкий и прозрачный, как папиросная бумага, светлый венок распущенных волос да белоснежный вихрь босоножек. В руке у нее был, кажется, маленький чемодан. Так выглядят те, кто торопится на вокзал или спешно уходит из дома. Мне почему-то показалось, что эта девушка сбежала от того расфранченного громилы, и тут же захотелось стать моложе и красивее, утешить ее, помочь, защитить… О, фантазия, как легко она разыгрывается в полночь! Лет бы двадцать — долой…
Через молодой парк дорога была короче и приятней, тут, что ни говори, а земля под ногами — это тебе не асфальт, не так утомляет ногу. Я уже начал подумывать над тем, чтобы прогуливаться не по улицам, а по юному парку, где чище воздух, тише и лучше ходить, как вдруг впереди зажелтел — не может быть! — ее плащ. Шагов через сто у меня уже не осталось сомненья: на скамейке, одна посреди бесконечной аллеи, сидела она. Когда я приблизился, она подобрала босую ногу, а руку с босоножкой сунула за спину. Мельком взглянув на меня, она опустила голову и замерла в ожидании, когда я пройду. Лицо все еще было печально, но уже без слез, как я успел заметить.
![Василий Лебедев - Золотое руно [Повести и рассказы]](https://cdn.my-library.info/books/149744/149744.jpg)